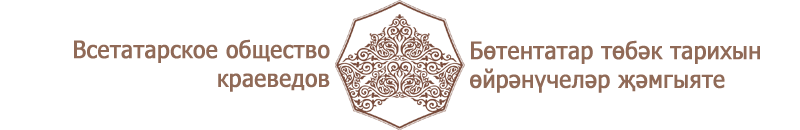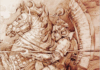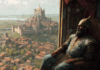Дастан «Туляк и Сусылу» привлек наше внимание по нескольким причинам:
-
он описывает весьма важный этап истории татар Волго-Уральского региона, предшествовавший разгрому эмиром Тимуром Золотой Орды и одного из важных ее административно-политических центров – Булгарского вилайета в конце XIVв.;
-
это эпическое произведение сохранило ряд значимых данных, позволяющих обнаружить следы домонгольских кыпчаков в Волго-Уральском регионе, в ходе формирования Улуса Джучи вошедших в его состав и ставших одним из основных этнических компонентов средневекового татарского народа;
-
в данном дастане обнаруживаются некоторые существенные стороны взаимодействия тюркских групп разного этнического происхождения на территории Булгарского вилайета, в особенности, не исключено, в его восточной половине, включавшей домонгольскую столицу Волжской Булгарии г.Биляр («Великий город» русских летописей, «Олуг шәһәр» по татарским источникам), бассейны рек Ика, Демы, Агидели и др.; 4) наконец, эпос «Туляк и Сусылу» позволяет протянуть связующую ниточку между Булгарским вилайетом Золотой Орды, Казанским княжеством конца XIV – 40-х гг. XVвв. и Казанским ханством с его элитной частью, в которой одним из правящих карачабекских кланов был род кыпчак, из которого происходили Арские князья.
Автор — Дамир Исхаков
Надо также специально отметить, что разработка исследуемой нами темы позволяет заново поставить все ещё остающуюся в историографии Татарстана недостаточно разработанной крупную научную проблему – речь идет о выяснении роли кыпчаков, а точнее, кимако-кыпчаков, в становлении средневековой татарской этнической общности.
Недостаток внимания к этой теме в татарстанской историографии в прежние годы объясняется двумя причинами:
-
историческая наука в Татарстане начиная с 1940-х гг. фактически весь советский период была булгароцентричной, когда значение золотоордынского периода истории, собственно золотоордынского этнического компонента у татар, всячески отрицалось, преуменьшалось, а булгарский этап и булгарский этнический компонент, наоборот, считался наиболее значимыми;
-
в российской (включая и ее советский период) историографии сложилось устойчивое мнение (вообще-то не безосновательное, но нуждающееся в более детальном обосновании) о полном «растворении» вошедших в состав Золотой Орды кыпчаков, якобы бесследно исчезнувших в итоге этнических процессов XIII–XIV вв.
Последняя точка зрения возникла из-за длительного отсутствия специальных исследований, посвященных судьбе кыпчаков в составе Улуса Джучи. Между тем в ходе разработки национальных историй многих кыпчакоязычных тюркских народов, особенно сохранивших клановые деления (узбеки, казахи, киргизы, ногайцы, каракалпаки, башкиры, алтайцы), обнаружился большой массив кыпчакских клановых образований, позволяющих судить о реальном участии этого этнического составного в становлении данных этносов.

Сложнее оказалось с татарами, у которых клановые структуры успели исчезнуть довольно давно из-за специфики их этнического развития, что однако никак не означает отсутствия у них кыпчакского этнического компонента, о котором прежде всего свидетельствует вхождение татарского языка в состав кыпчакских языков. Но не только: имеются достаточно многочисленные иные материалы, которые свидетельствуют о реальном вкладе средневековых кыпчаков и их этнических наследников в становление татарского народа.
В настоящем исследовании будут продолжены и дополнены наши предыдущее изыскания. На этот раз они увязаны с содержанием дастана «Туляк и Сусылу», его героями, а также с Арскими князьями из Казанского ханства, Вятской земли и их потомками – нукратскими (чепецкими) татарами Вятского края.
Так как ранее нами публиковались специальные статьи, посвященные дастану «Туляк и Сусылу» (см. выше), мы опускаем ряд аспектов, связанных с определением времени его формирования, хронологии версий этого эпического произведения, в целом истории выявления его вариантов (эти вопросы рассматриваются более детально и в статьях И.Г. Закировой и Л.Х.Мухаметзяновой).
Главный герой дастана и его социальный статус
Вначале остановимся на главном герое дастана. Это Туляк (Түләк), Заятуляк (Заятүләк), согласно эпосу ставший ханом и правивший 3 года (варианты: 6, 36 лет). Он называет своим отцом человека по имени «Мирказый»-бий (варианты его имени: Мыркас/Мирказый/Миркас/Сары-Мыркас), хотя в некоторых местах дастана его отцом называется и легендарный «Бачман-хан».
Впрочем, как можно заключить, изучив тексты разных вариантов дастана, в более древних его вариантах Бачман выступает как самостоятельная фигура, отец некоего иного хана, или же, если даже он объявляется отцом Туляка, тут же, вопреки логике, в тексте эпоса сообщается, что отцом последнего все же был Мирказый-«бай».
Похоже, что при произошедших в прошлом сокращениях начальной части текста дастана в нем возникли некоторые изменения, приведшие к определенному нарушению целостности первоначального текста эпоса.
Тем не менее, из более аутентичных, на наш взгляд, вариантов эпоса, достаточно ясно видно, что отцом Туляка являлся человек по имени Мирказы/Мыркас. Однако в сохранившихся среди башкир версиях дастана, т.е.преимущественно в его устных вариантах, фигурируют еще несколько имен отцов Туляка: Албыр (Албыр йолкыш), Миннегужа (Миңнегужа карт) и Сэмэр (Смр)-хан.
Так как эти устные версии эпоса по сравнению с письменными версиями сильно сокращены и их сюжеты упрощены (подобное наблюдалось уже в тексте дастана, записанном среди башкир М.Гафури), эти имена могут быть результатом более позднего творчества сказителей. Несмотря на это, их тоже нельзя автоматически отбрасывать, что далее будет еще прокомментировано.
А пока, в первую очередь, заслуживает внимания имя самого Туляка, которое совпадает с именем возведенного Мамаем на престол в контролировавшейся этим темником части Золотой Орды в 1380 г., хана Тулукбека (варианты написания имени: Тюляк/Тулукбек).
В этой связи следует также заметить, что в разбираемом дастане сыном Туляка назван человек по имени Габдулла, возведенный на престол ханства после своего отца – Туляка и правивший всего 2 года. А так как личность по имени Габдулла (Абдулла) известна на территории Булгарского вилайета Золотой Орды, как из «Дефтер-и Чингиз-наме», так и из некоторых татарских генеалогий, приведенная выше информация, несмотря на то, что последовательность правления легендарных ханов Габдуллы и Туляка по дастану и реальных ханов Абдаллаха (Абдуллы) и Туляка (Тулукбека) в Орде Мамая как будто бы не совпадают (хан Абдаллах, судя по монетам и другим источникам, в Мамаевой Орде правил до Туляка/Тулукбека, в 1361/2–1369/70 гг.), должна получить свое объяснение.
Птица как символ… чего?
И в этом плане следует присмотреться к некоторым деталям, содержащимся в интересующем нас дастане. Речь идет о «птице» Туляка из дастана. Дело в том, что в эпосе в качестве таковой фигурируют две «птицы» – «Ак шонкар» (шонкар/шынкар) и «Ак йапалак» (ябалак).
Но изучение текстов разных версий дастана показывает, что настоящей «птицей» Туляка считался все же шонкар или «Ак шонкар». Появление вместо него другой «птицы» – ябалака, объясняется в записанных среди башкир устных версиях дастана таким образом: это братья Туляка подсунули ему птенца какой-то «белой птицы» (ак кош), полагая, что тот был птенцом ябалака (ак ябалак баласы), хотя на самом деле он оказался птенцом шонкара (ак шонкар баласы).
Несмотря на то, что в дастане «птица» Туляка больше выступает в виде обычной охотничьей птицы, за ней, как думается, скрывается племенной атрибут – онгон определенного клана. В частности, при описании чудесного появления некоей «железной горы» (тагъ), в нижней стороне которой находился «золотой престол» (алтын тәхет) около центра владения отца Туляка – Мирказый-бия, в эпосе сообщается о полете над этой горой птицы «ак шонкар»а, дополнительно охарактеризованной в источнике как «миңезлик кош».
По чтению М.А.Усманова, как полагаем, неправильному – «меңтүләк кош»). Не исключено, что выражение «миңезлик / миңизлик кош» надо понимать в смысле «похожий на [данную] птицу», т.е. на «белого шонкара». Не говорит ли это о некотором не совсем птичьем «характере» того создания, которое летало над горой, подразумевающем его особую природу как онгона (сюльде)?
И тут заметим, что имеется еще одно диалектное слово – «меңге» (пермский говор), означающее «деньги, монету».
В этом случае вышеназванное выражение может подразумевать птицу, чеканенную на монете (например, двуглавого орла, встречающегося на золотоордынских монетах). В принципе, последнее предположение не противоречит первому. При разборе этого вопроса следует обратиться к относительно позднему (конец XVII в.), но очень интересному татарскому источнику – «Дефтер-и Чингиз-наме», в котором в разделе, посвященном наделению Чингиз-ханом своих беков «народом» и племенными атрибутами, сообщается и о «птице» (кош) каждого вождя.
Так, шонкар там упоминается как атрибут сына Кыйата Буданжара (Буданҗар оглы Кыйат). Речь в источнике идет о реальной исторической фигуре – согласно «Таварих-и гузида-йи Нусрат-наме», Бузанджар-бек был «из потомков кыйата Исатай-бека» и входил в первой трети XVв. в число знати, окружавшей хана Абул-Хайра во времена «установления [его] могущества».
Получается, что шонкар являлся онгоном клана Кыйат. Подтверждается ли эта информация источниками? В целом подтверждается, но появляются и определенные проблемы. В частности, в «Сокровенном сказании» и «Алтан Тобчи» есть намек на «птицу» клана Кыйат. В «Алтан Тобчи» в рассказе о том, как сватает Есугей дочь Дэй-Сечена из клана кунграт для своего сына Темучжина, есть место, где вождь кунгратов сообщает сватающему:
«Сват Йисугэй, снился мне сон в эти две ночи: белый сокол прилетел, держа солнце и луну, и опускался мне на мою руку… этот сокол… прилетел, на руке моей стал светлым сокол, прилетев, указав [мне], что он-то и есть [хранитель] рода кийат».
В «Сокровенном сказании» это событие передается так же, но с небольшим нюансом, возможно, связанным с переводом. В нем последнее предложение при описании эпизода сватовства звучит так:
«Не иначе, что это вы– духом своего киятского племени – являлись во сне моем и предрекали!». Н.Н.Крадин и Т.Д.Скрынникова уточняют, что в оригиналах названных источников речь идет о соколе «шонхор», являвшемся «сульде (духом-хранителем. –Д.И.) рода кият».
Показательно, что эта «птица» была белого цвета, т.е. мы имеем дело с «белым шонкаром» (ак шонкар). Проблема же заключается в том, что в «Дефтер-и Чингиз-наме» о Чингиз-хане, чьи предки были из клана «кыйат-бурджигин», сказано: его «птица» – «ике баш[лы] кара кош». Эта проблема нами разбиралась в другой работе, тут укажем только, что несовпадение названий «птиц» Чингиз-хана и одного из его предков могло объясняться тем, что в отличие от Буданчара правитель Великого Монгольского государства занял надклановое положение, что могло изменить и форму его сульде. Возможно, с этим связан и «синтетический» характер – двуглавость этой «птицы», нашедший выражение, как известно, и на монетном материале. Но в данном случае для нас важнее было установление принадлежности «птицы» под названием «шонкар» (ак шонкар) к клану Кыйат.
Теперь следует разобраться с вопросом о социальном статусе Туляка. С одной стороны, основной претендент на то, чтобы оказаться его отцом – Мирказый (варианты написания его имени см. выше), определяется в дастане как «би, бий», т.е. он являлся князем.
В этом случае Туляк должен был бы считаться сыном князя. Однако в реальности в дастане обнаруживается более сложная картина. Так, в древнейшей версии эпоса есть рассказ о том, как Туляк после долгого отсутствия вернулся в то владение, где продолжал жить его отец («атам йорты») и где к его возвращению умер хан. В этот момент народ и представительные лица государства принимают решение поднять на ханский престол первого человека, которого встретят утром (до обеда) – им и оказался Туляк. И в этой ситуации к Туляку обращаются как к «сыну султана» (солтан угълы). Но все дело в том, что затем из текста дастана выясняется, что при восшествии Туляка на ханский трон его реальное происхождение народу этого юрта не было известно, оно раскрылось только через три года.
В дальнейшем, тем не менее, то, что он был только княжеского рода, не помешало ему долгое время оставаться ханом, а его сыну унаследовать после смерти отца его трон.
В собственно башкирских версиях эпоса обнаруживается двоякая трактовка: в одних случаях отцы Туляка (Заятуляка) – Сары (Һары)-Мыркас или Сэмэр (Смр), титулуются ханами, а сам он объявляется сыном хана (хан угълы), иногда именуясь «шахом» [Там же]; в других случаях титулы его отца не называются, он даже объявляется «бедняком» (йолкыш), «стариком». Скорее всего, во втором – башкирском круге источников – произошло наложение титула реального правителя юрта, выступающего то под именем Бачман-хана или под иными именами (например, как «Сәмәр хан»), на отца Туляка, Мирказыя.
Это видно из одного рукописного варианта дастана, в котором Туляк вначале объявляется сыном хана Бачмана, затем он же именуется «Туляком, сыном Мирказый-бая» (Мирказый бай угълы, Түлк ирде), но с объяснением, что тот был без отца (йалгыз угыл) и хан взял его к себе на воспитание. Кстати, даже в башкирских версиях эпоса Туляк (Заятуляк) иногда называется «сыном бая», что надо понимать как реминисценцию титула «бий».
В целом получается, что эпический Туляк, будучи княжеского (бийского) рода, в довольно своеобразных условиях стал ханом и смог передать ханство своему сыну. Создатели эпоса понимали, что ситуация эта была не совсем стандартной, поэтому им пришлось использовать некоторые специальные объяснения случившегося (незнание первоначального статуса Туляка при избрании его ханом; взятие его ханом до того на воспитание; связь Туляка с мифическим миром пери).
Несмотря на все необычные наслоения, нам становятся известными первоначальная принадлежность Туляка по отцу к знатному роду, имя и титул его отца, а также один из атрибутов отцовского клана – его «птица» по имени «ак шонкар», говорящий на самом деле о том, что мы в лице Мирказыя похоже имеем дело с клановым вождем – бием группы Кыйат.
После того, как была получена вся эта информация, можно попытаться протянуть связующую нить между эпическими героями и реальными историческими фигурами, известными в Золотой Орде определенного времени.
Вначале остановимся на отце Туляка – Мирказый (Мыркас/Миркас)-бие. Сразу же отметим, что имя этого знатного лица, находившегося при возвращении эпического Туляка из владений пери среди горожан – политического центра «отцовского юрта», весьма напоминает имя одного из четырех «улуг беков» правителя «шахри Булгара» хана Габдуллы эпохи походов эмира Тимура в Поволжье. Этого бека, согласно «Дефтер-и Чингиз-наме», звали «Миркаши-беком».
То, что недалеко от исторического г.Болгар русские летописи еще в 1374 г. упоминают топоним «Моркваши» наталкивает на мысль, что все эти наименования – Мыркас/Миркас/Мирказый/Миркаши/Моркваши – как-то связаны между собой. Заметим, что именно эти четверо «улуг беков» в «Дефтер-и Чингиз-наме» названы «шахзаде». Можно думать, что выделение в «Дефтер-и Чингиз-наме» четверых из беков, включая и «Миркаши-бека», находившихся во владении хана Габдуллы с центром в Булгаре особым образом – как «шахзаде», скорее всего, говорит об их весьма высоком статусе. Во всяком случае, еще ранее нами было высказано предположение, что в данном случае подразумевалась их принадлежность со стороны матерей к Чингизидкам.
Из приведенных материалов, кстати, напрашивается еще один вывод – собственным «юртом» отца Туляка Мирказый-бия был на самом деле Булгарский вилаят с центром в «шахри Булгаре» или в Биляре («Великом городе»), домонгольской столице Волжской Булгарии.
Для того чтобы подкрепить данное заключение, более подробно остановимся вначале на фигуре Габдуллы из «Дефтер-и Чингиз-наме». В этом источнике он назван «ханом города Булгара» (Болгар шәһәрендхан иде), погибшим при взятии этого города Тимуром (Аксак-Тимер).
В связи с этой личностью следует отметить, что сохранились татарские родословные, в которых говорится о некоем «Улус-бие» (Олыс бий) из клановых вождей Чингиз-хана, вышедшем из «шахри Булгара». Любопытно, что в устных вариантах названных шеджере они начинаются с Габдуллы хана, «будто бы выходца из Крыма». Показательно, что у названного «Улус-бия» не только тамга, но и дерево (карагай) совпадают с клановыми атрибутами клана Кыйат.
Правда, «птица» рода «Улус-бия» – «күчәгән», судя по названию, клану Кыйат не принадлежит. Ранее нами высказывалась догадка, что такое несоответствие объясняется, возможно, смешением в указанных
родословных сведений из мужской линии с данными по женской линии. Сюда также следует добавить, что в татарской хронике «Фи бейан-и тарих» приводится тамга сына легендарного правителя Булгара хана Габдуллы по имени Алтын-бек, как по названию (верн), так и по начертанию (Х) совпадающие с тамгой отмеченного выше «сына» Кыйата Буданжара.
Далее в этом источнике сообщается, что из «рода» детей (имеются в виду Алтын-бек и Галим-бек) Габдуллы-хана «есть и в Крыму. По этой причине, если был нужен хан, в Казань хана брали из Крыма» («Алтын бик, Галим бик оругларындын Кырымда һәм бар ирмеш. Ул сәбәбдин һәр заман хан кирәк булса, Кырымдын хан алырлар ирмеш Казанга»).
Таким образом, явственно обнаруживается «крымский след» у рода Габдуллы «хана». Между тем, как известно, Крым до 1380г. являлся домениальным владением темника Мамая из клана Кыйат, что позволяет сформулировать гипотезу о неслучайности обнаружения у отца Туляка Мирказый-бия и у легендарного правителя Булгара – Габдуллы-«хана», определенных признаков их принадлежности к данному клану.
На самом деле, в дастане «Туляк и Сусылу» имеется еще одна деталь, свидетельствующая о том, что под «сыном» Туляка Габдуллой имеется в виду та же личность, что и в «Дефтер-и Чингиз-наме». В частности, в некоторых собственно башкирских вариантах эпоса фигурируют два брата (агай-эне) – Алтынбай и Етем (Ете) бай, родственником которых, видимо, племянником, и предстает Туляк (Заятүләк).
Как видим, из приведенных двух имен первое совпадает с именем одного из сыновей Габдуллы-хана из Булгара – Алтынбека, как недавно выяснилось из «Умдет ал-ахбар» Абдулгаффара Кырыми, являвшегося (его точное имя – Алтынай султан) представителем рода Шибанидов. Конечно, эпическая реальность своеобразна – имена героев в дастане не выстраиваются в той же последовательности, в которой они представлены в «Дефтер-и Чингиз-наме». Однако, в дастане «Туляк и Сусылу» имеется еще один, не замеченный до сих пор исследователями элемент, позволяющий продолжить изложенный выше ход мыслей.
Итак, обратимся к дастану, точнее, к его рукописным версиям, сохранившимся у татар. В самом конце этого эпоса рассказывается о том, что после смерти Туляка на ханство «был поднят» (ханлыкка күтәрделәр) его сын Габдулла, правивший только 2 года. После того, как он умер, ряд чудесных творений, полученных им в наследство от отца, исчезли. В числе их был и «золотой трон» (алтын тәхет), явно заслуживающий особого внимания. Этот трон в эпосе появляется следующим образом: когда Туляк оказался во дворце Сусылу, во владениях Чачдар-хана, прожив там некоторое время он заскучал по своей родине и внезапно перед этим дворцом появился «золотой трон», за которым стояла скрепленная железом, отделанная золотом и мрамором гора – Балкан-тау, полная всяких творений.
И вот туда Туляк прошел и затем сел на названный трон. В эпосе подчеркивается, что все имущество Туляка, включая его «счастливый трон» (тәхетем-бәхетем), было ему даровано Всевышним – Тенгри . Поэтому, когда Туляк обратился к Всевышнему с просьбой перенести его со всем своим подводным владением и Сусылу на землю, это было сделано – все оказались в итоге около «великого города» (олуг шәһәр), стоявшего во владениях его отца. Горожане, проснувшись утром, увидели не только названную выше гору, но и располагавшийся на нижней ее части тот самый «золотой трон», который изображается так: «ножки из серебра, изголовье из жемчуга».
Когда Туляк стал ханом, по пятницам он поднимался на Балкан-тау, садился на свой «золотой трон» и развлекал народ, играя на музыкальных инструментах. Вот этот-то трон и исчез после смерти сына Туляка, Габдуллы хана.
Несмотря на все мифологические элементы, сопровождающие в дастане сюжет с «золотым троном», в данном случае заметна «прикрепленность» этого тронного «места» и самого трона к «роду» Туляка, точнее, к нему самому и к его сыну Габдулле. Вот тут и обнаруживается, что термин «алтын тәхет» действительно имеет отношение к Булгару – именно его некоторые татарские источники именуют «золотым троном», что было достаточно детально выяснено И.А.Мустакимовым (см., например, фразу из «Фи бейан-и тарих»: «…Алтын тәхетдин чыкып, Иске Казанга килделәр. Алтын тәхет дип шәһәре Болгарныйтер ирмеш» [Там же]. [«в Иске-Казань пришли выйдя из Золотого трона. Золотым троном именовали город Булгар»]).
На самом деле и в рассматриваемом эпосе есть признаки того, что речь там идет о реальном посажении на трон, причем в этом эпизоде используются термины явно золотоордынского происхождения. В частности Туляку, когда он прибыл к «великому городу», народ говорит: «Имди сине тәхеткә күтәргәймез!» [«Сейчас мы тебя поднимем на трон!»].
Дальше сказано, что «весь народ» «поднял на трон» Туляка. То, что это место дастана отражает золотоордынскую традицию, можно показать на основе двух источников. Например, вот как описывает И.Шильтбергер церемонию интронизации хана «Золотой Татарии» на основе личного наблюдения на рубеже XIV–XV вв.: «Короля (т.е. хана. –Д.И.) …сажают …на белый войлок и три раза приподнимают. Затем носят его вокруг палатки, сажают на престол и вручают ему золотой меч, после чего он должен присягнуть по их правилам».
Вот это «приподнимание» на войлоке и может быть трактовано как «тәхеткә күтәрү» [сажать на трон приподняв]. Похожий обряд зафиксирован при интронизации Ураз-Мухаммеда в 1600 г. на трон Касимовского ханства Кадыр-Али-беком в его труде «Джамигут таварих». После слов «сын Ондан-султана Ураз-Мухаммед-хан был поднят на трон», в источнике сказано: «… четыре человека с четырех сторон подняли господина хана на золотой сандал (трон)» [«Дүрт кеше дүрт яктан хәзрәти ханны алтын сандалның (тәхетнең) өстен күтәрде»]. Заметим, что поднявшие хана на трон знатные лица являлись, скорее всего, карача-беями.
Таким образом, круг замкнулся – похоже, что в Туляке и его родственниках надо видеть представителей группы Кыйат – одного из знатнейших кланов Улуса Джучи, – как можно думать, занимавших видное положение и в социально-политической структуре Булгарского вилайета с центром в Булгаре.